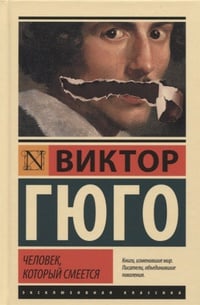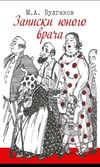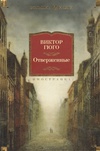Рецензия на книгу Человек, который смеётся от v1shn

«После смерти наши глаза опять откроются, и то, что было молнией, станет солнцем».
Это моя первая прочитанная у Гюго книга, однако же она оказалась столь неплоха, что почти сразу после того, как её закончила, я решилась взяться за знаменитый во всём мире «Собор Парижской Богоматери» и чуть менее знаменитый, насколько я знаю, «Девяносто третий год». Но об этом позже.
У Гюго какая-то такая особенная манера описания персонажей. Особенно отрицательных. Все они будто бы предстают в беспристрастном совместном суде писателя и читателя с целым ворохом негативных качеств и поступков, однако же постоянно оказываются оправданы этим судом.
Читать было на удивление легко. Каюсь, я совсем не ожидала подобного от литературы девятнадцатого века. Было местами неприятно, но я нашла чертовски интересным занятием проводить аналогию того времени с нашим и находить в романе какие-то такие детали, которые в людях в общих чертах совершенно не поменялись. Наверное, именно поэтому я как-то мельком взглянула на историю основных персонажей, на так называемую «любовную» линию Гуинплена и Деи, хотя лично я здесь вижу лишь только тёплую привязанность со стороны одного и фанатичное воздыхание со стороны второй, как бы сам автор эти чувства не называл.
«Этот низкий промысел, бывший весьма на руку тому высокому промыслу, который именуется политикой, обрекался на жалкое существование, но не преследовался. Никакого надзора за ним не было, однако из виду его не упускали. Он мог пригодиться. Закон закрывал один глаз, король открывал другой».
В общем, по большей части меня увлекли сторонние образы: толпа, смеющаяся над изуродованными людьми за собственные деньги; высокопоставленные люди, праздные и чрезмерно увлечённые получением прибыли и усладой самих себя; моряки, тщетно сражающиеся с бурей в самом начале произведения; люди, уродующие детей, дабы за деньги выставлять их на посмешище вышеупомянутой толпе; ворчливый талантливый философ, чьи умения оказываются неинтересны абсолютно никому. Здесь все основные людские пороки, и их отличительная черта в повествовании в том, что за ними интересно наблюдать.
«Человек, который смеётся» – это о времени, в котором нет места сочувствию и жалости, есть только праздность и жадность, жажда наживы и – сплошь и рядом – лицемерие.
«Ум, как и природа, не терпит пустоты. Природа наполняет пустоту любовью; ум нередко прибегает для этого к ненависти».
Тем не менее основных персонажей нельзя обходить стороной. Мне нравится, например, что Гюго не превратил Гуинплена, того самого человека, который смеётся, в персонажа-идеала. Да, он страдает и никто, кроме слепой девочки Деи, фанатично преданной ему, не видит его боли, его души, ведь он – урод и калека, его лицо искажено в жуткой гримасе, в которой всем представляется только лишь безудержный смех. А человек, который постоянно смеётся, никогда не может грустить. И человек, являющийся уродом, никогда не сможет ощущать ничего человеческого.
Но он, отягощённый душевными муками, поддаётся искушению высшего общества, показывает себя подлым человеком, падким к статусу, власти и богатствам. Не мудрено, ведь столько лет тебя сначала считают никем, а потом возносят аж почти на королевский уровень. Кто не соблазнится такой возможностью?
Дея показана Гюго тоже далеко не идеальной. У её личности есть как положительные, так и отрицательные стороны. В числе первых то, что можно назвать стечением обстоятельств: она слепа, а потому в какой-то степени в тысячу раз зрячей толпы. Она не видит внешности и не может оценить человека по одежде. И оттого именно она лучше всего понимает Гуинплена и так сильно привязывается к нему. Среди негативных черт я по своему субъективному мнению могу отметить её странный способ «любить», вовсе любовь не напоминающий, а вполне схожий с уже упомянутым мною фанатизмом.
На самом деле я думаю, что этот персонаж раскрыт автором в наименьшей степени и именно образа Деи мне в романе и не хватило.
Безусловно, нельзя обойти стороной и старика Урсуса с его верным волком Гомо. Урсус – забавный персонаж, поначалу показавшийся мне очень близким. Озлобленный и несколько яростный внутри, снаружи он кажется ворчливым и пытается показать всем, как ему вообще на всё глубоко наплевать и что ничто не может тронуть его холодное сердце. Ну просто описание меня, если честно.
Его судьба в произведении циклична: читатель встречает его бедным странником, путешествующим по миру с волком, и провожает его, когда он предстаёт перед читателем в точно таком же положении.
Его волку, Гомо, стоит уделить отдельное внимание. Изначально всё в нём говорит о том, что он, являясь почти что диким зверем, тем не менее в сто раз человечнее каждого упомянутого в произведении героя (с латинского homo – человек). Гомо – персонаж, в действительности ни от кого и ничего не ожидающий. Он по понятным причинам не строит ни о ком иллюзий, не мечтает, трудится наравне с труппой и вообще является большим умницей и моим самым любимым героем.
Героев действительно очень много и немалый интерес представляют также и те из них, что строят интриги и козни тем или иным персонажам произведения, но если писать о них всех, уйдёт ещё чёртова туча времени.
Если подводить какой-то итог, то «Человек, который смеётся» Гюго, наверное, является произведением, входящим в мой список одних из самых удачных знакомств с новыми для меня авторами. Читать было дьявольски интересно, невзирая даже на то, что некоторые философские вставки, поданные через старика Урсуса, показались мне несколько затянутыми.
Вовсе не пожалела о том, что прочла данное произведение, и, вероятно, возьму его в руки ещё пару раз: может, замечу какие-то новые для меня детали.
«Его бесстрастие, быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости: окаменелости сердца, свойственной палачу, и окаменелости мысли, свойственной мандарину».