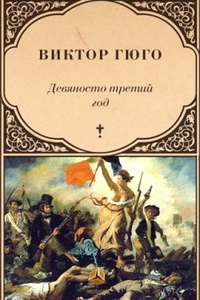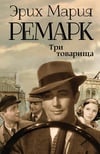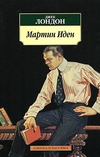Рецензия на книгу Девяносто третий год от v1shn

Революция есть коренное изменение, переворот в какой-либо сфере жизнедеятельности общества, а всегда соответственно и в истории этого общества. Некоторые революции проходят локально и тихо, о них не трубят на весь мир, их измождённый рёв борьбы не всегда слышен даже в соседних странах. Но Французская революция, бесспорно, навсегда оставила яркий след на страницах истории не только одного государства, но и, если и не всего мира, то значительной его части.
Революция – это всегда глоток вдохновения для творческих личностей. А потому не один писатель в своём творчества обращался к теме переворотов, особенно часто в частности – к Великой Французской революции 5 мая 1789 года – 9 ноября 1799 года. Не оставил её без внимания и Виктор Гюго, на которого у меня, похоже, случилось нечто вроде забега: три книги за раз.
Период, выбранный автором для написания романа, является почти что серединой революционных событий. Примерно в то же время во Французском Королевстве произошёл суд над Людовиком XVI, по решению которого бывший король был обезглавлен; было провозглашено Временное правительство; под знаком террора власти гильотинирована королева Мария-Антуанетта; а на территорию Франции вторглись испанские и австрийские интервенты.
И Гюго подошёл к описанию событий Великой Французской революции основательно. От длительного вынашивания идеи романа, углублённого изучения различного рода исторических материалов, применения собственного жизненного опыта и глубокого анализа событий тех времён, произведение его наполнено достоверными фактами и деталями.
Многие персонажи имеют прототипы или действительно являются когда-то реально существовавшими историческими личностями (те же Робеспьер, Марат, Дантон), а локации, на которых происходит действие романа, частично или полностью вполне себе существуют в реальном мире. И это делает книгу точнее, полнее, приближая читателя к той самой революционной атмосфере.
Однако не был бы это Гюго, если бы с деталями не переборщил. Ну есть у него эта привычка к чрезмерному описательству. Создаётся такое впечатление, что автор, ведомый одной мыслью, случайно перескочив на другую, настолько увлекался и ею, что напрочь забывал о первой. Безусловно, читая Гюго, получаешь истинное удовольствие от богатства, разнообразия его языка. Его манера повествовать поражает из раза в раз. Однако же именно чрезмерная и, как обычно, внезапная детализация происходящего частенько сбивала с толку и тушила происходящий накал страстей. Имена, должности, названия мест и их подробнейшая история… за этим всем медленно, но верно, терялся сюжет.
Успев заинтересоваться одним событием, искушённый читатель жаждет продолжения и развязки, но получает именно что очередное отступление от темы на, к примеру, детальную историю строительства дотошно описанного замка, находящегося под осадой, участники которой тоже все описаны крайне подробно, чтобы читатель как можно более верно задействовал своё воображение. А потом… ничего. Накал потерялся, увлечение потухло под толщей несколько нудных рассуждений, да и сам сюжет как-то разительно померк.
Сам процесс чтения из-за этого по ощущением примерно напоминает процесс внезапного обнаружения себя в надувной лодке где-то на океанических просторах: сначала очень-очень интересно, а потом уже как-то не очень и хочется поскорее на берег. А потом вдруг где-то проплывает белая акула, и тут снова становится так интересно, так увлекательно, – хорошо!
Трагичная концовка подталкивает к осмыслению самой противоречивой сути всех революций.
Казалось бы, "Liberté, Égalité, Fraternité!", то есть «Свобода, равенство, братство!». Выражение, ставшее девизом Великой Французской революции. Оно подталкивало людей восставать за свержение монархии и установление республики, в которой все должны были бы быть свободны и равны друг другу. Именно оно подталкивало народ идти на революцию, в процессе которой разрушались все установившиеся человеческие ценности; в которой разлаживались семьи и рода, а брат мог без зазрения совести выступить против брата. Революцию, в которой семья переставала значить что-либо перед великой идеей, в которой не важно было количество жертв, а сама она пожирала своих же бравых детей (тут, кстати, хочется отметить очень уместное упоминание автором образов Матери и Детей, перекликающихся с образами Революции и её доблестных сыновей, забывавшихся и забывавших самих себя в этой безжалостной кровопролитной битве за её честь и идею). Революцию, которая в какой-то степени можно назвать полноценной гражданской войной.
Но стоила ли она того? Имели ли место все те многочисленные жертвы, изломанные жизни и израненные души?
Каждый, пожалуй, волен решить сам для себя.