Марсель Пруст рецензии на книги - страница 2
«…так остаются бесплодными цветы primula veris, двуполые, с короткими пестиками, если их опыляют цветы других primula veris, тоже с короткими пестиками, а между тем пыльцу, которой их одаряет primula veris с длинными пестиками, они принимают с восторгом»
Чтобы не слишком шокировать публику темой четвертой книги, Пруст решает деликатно, на ботанических примерах, подготовить читателя. В результате чего у последнего должно сложиться мнение, конечно же, не о том, что обладателям коротких пестиков ничего не светит. Не много светит тем пестикам, чью возможную связь природа предопределила как бесплодную. И дело тут не в размере.
Понятно, что в «Содоме и Гоморре» Пруст не мог совершенно свободно высказывать свое отношение к проблеме гомосексуализма, ему пришлось так или иначе давать принятые в обществе оценки этому явлению как чему-то ненормальному, порочному и извращенному.
Но на самом деле все не так просто. Не знаю, какие выводы делали современники писателя, но для меня из его текста совершенно очевидно вытекает мысль, что в гомосексуале, которого таким создала природа, нет ничего ненормального. Противоестественным для него как раз будет попытка изменить свою сущность, и Пруст великолепно демонстрирует это на примерах браков мужчин-гомосексуалов с женщинами.
Вообще прустовские рассуждения очень интересны, и дают возможность понять проблемы людей с нетрадидиционной ориентацией изнутри. А в обществе, которое отрицает само право на их существование, трудностей для них миллион.
Другое дело - персонажи вроде Мореля, которые, не будучи гомосексуалами по природе, оказывают за деньги запретные услуги мужчинам. Здесь уже можно рассуждать о пороке и морали, если кому надо, но я лично не вижу большой разницы в поведении проститутки гомо- или гетеросексуальной. Тут речь о нравственности вообще. В книге полно неприятнейших персонажей вполне традиционной ориентации. На их фоне барон де Шарлюс, влюбленный в Мореля, выглядит просто душкой.
Четвертый том продолжает также темы предыдущих книг. Рассказчик снова в Бальбеке, где не может разобраться в своих чувствах к Альбертине. Похоже, что все центральные персонажи «Поисков» страдают одним и тем же типом невротической любви, которая подогревается исключительно ревностью или унижениями. Здоровые отношения, по-видимому, скучны и никому не интересны. Сван, Сен-Лу, Шарлюс, Рассказчик - все они влюбляются как по методичке «1000 и один гарантированный способ нажить нервную язву от любви», у всех у них болезненное желание контролировать объект их чувства, домысливать и мучиться. Если же убрать все эти приносящие беспокойство раздражители, то есть риск, что вместе с ними уйдет и сама любовь.
В Бальбек на каникулы перебирается госпожа Вердюрен из первой книги, сюда же перекочевывает вслед за ней «кланчик верных» - завсегдатаи ее артистического салона. С прежней претензией на изысканный вкус и открытие настоящих талантов, госпожа Вердюрен на самом деле руководствуется простым правилом ревнивицы: вкус и талант несомненно имеет тот, кто посещает ее салон. Те же, кто в свое время были украшением его, но потом покинули этот кружок верных, естественно, сразу же превращаются в посредственностей, мазилок и бездарей.
Мне показалось, что этот том отличался немного от предыдущих, чего-то мне не хватило в тексте. Вроде бы Пруст, но не совсем тот. Может быть, дело в переводе - Елена Баевская перевела пока только три первые книги, их я читала в ее переводе, а «Содом и Гоморру» попеременно в переводах Любимова и Федорова/Суриной. В общем, эта часть цикла пока мне понравилась меньше остальных. Посмотрим, что будет дальше.
С тех пор, как я перевернула последнюю страницу второго тома, прошло довольно много времени, кое-что подзабылось. К моей радости, по ходу чтения в памяти всплывали и персонажи, и события, связанные с ними, но главное - сразу же вспомнились мои собственные эмоции, те самые, ради которых снова и снова хочется погружаться в поэтическую прозу Пруста.
В третьей книге цикла уже ощущается начало взросления главного героя. Он все так же еще полон юношеской восторженности, мечтательности, по-прежнему очарован звучанием имен и названий, которые в силу своей чувствительности поэтизирует, наделяет почти волшебными свойствами. Но если в первой книге его ждало почти всегда гарантированное разочарование от встречи с объектами этой поэтизации, в «Германтах» он уже начинает понимать причины такого несоответствия ожиданий и реальности.
«Талант Берма, ускользавший от меня, когда я так жадно пытался добраться до самой его сути, теперь, спустя годы забвения, пробился сквозь мое безразличие, предстал мне со всей непреложностью - и я пришел в восторг».
Иными словами, после охладевания к предмету безудержных грез, главный герой становится способным замечать подлинную, а не созданную его фантазиями, красоту обладателей этих имен.
Долгожданное знакомство с герцогиней Германтской, еще одной мишенью безграничного воображения героя, приносит уже не столько разочарование (хотя и не без этого), сколько довольно зрелое понимание, что придуманных его фантазией людей или мест, в том виде, в каком он их себе представляет, попросту не существует. Как и в примере с Берма, после первого шока от осознания несоответствия небожителей Германтов в его голове с реальными людьми, которые носят это имя, главному герою удается наконец оценивать их непредвзято, с помощью других мерок.
В «Германтах» продолжается тема светских салонов. В первых двух книгах писатель познакомил читателей с салонами буржуазии. На этот раз он дает возможность попасть в мир парижской аристократии. Пруст, том за томом, словно повышает ранг этих собраний с тем, чтобы добраться наконец до самых сливок - закрытого салона герцогини Германтской, в который допускают только избранных. Конечно, главный герой мечтает попасть туда, воображая себе изысканное общество утонченных интеллектуалов, в центре которых сияет звезда несравненной герцогини.
По счастью, быть приглашенным в этот недоступный мир ему доводится уже после охлаждения к хозяйке салона, поэтому получается понаблюдать за Германтами и их гостями без излишней экзальтации и избежать душевной катастрофы от разочарования, которая обязательно произошла бы, случись вхожесть в этот элитный круг раньше. По-настоящему умных и интересных людей здесь нет. «…истории, услышанные мною у герцогини Германтской, ничуть меня не задевали - не то что цветущий боярышник или вкус мадленки». Самый изысканный салон Парижа не многим, в сущности, отличается от тех, что держат жены буржуа и даже дамы полусвета.
Тем не менее знакомство с аристократами дает наблюдательному герою во многом понимание их выработанного веками кода поведения. Все же «тысяча лет феодализма не проходит бесследно».
Написать хотелось бы еще и о бабушке героя, и о дружбе с Сен-Лу и его страсти к «Рашель когда Господь», о бароне де Шарлюсе и картинах Эльстира и о многом другом. Но, пожалуй, хватит.
Скажу только, что, наверное, я поняла, почему мне нравится Пруст. В отличие от его главного героя, меня не постигло разочарование от знакомства с реальностью. В данном случае, речь, конечно же, о «Поисках». Настоящая книга оказалась ровно такой, какой рисовала мне ее моя фантазия, если не лучше. В связи с чем закончу цитатой главного героя из последнего тома цикла (она приведена в предисловии к первой книге), которая обращена к будущим читателям его книги: «Они будут читать не меня… а самих себя, а моя книга послужит им чем-то вроде того увеличительного стекла, которое протягивал покупателям хозяин магазина оптики в Комбре: благодаря этой книге я помогу им читать в себе. И я не стану ждать от них ни хвалы, ни хулы, пускай просто скажут, получилось ли у меня, совпадает ли то, что я написал, с тем, что они прочли у себя в душе…»
Получилось.

"Если у человека есть ум и сердце, то не все ли равно - герцог он или конюх?"
Перефразируя самого Пруста хочется воззвать к читателям этого волшебного творения - если написано Так, то не всё ли равно- что именно написано?
Текст для ценителей и эстетов. Пожалуй, чем-то напомнило обожаемого Набокова, который также умеет растекаться и живописать совершенно незаметное другому глазу явление - внешнее или внутреннее.
И как ценны (исторически и культурно) такие тексты, в которых чрезмерная изнеженность, внимание к мелочам, незначительным деталям во всем у современного читателя может вызвать бурю негодования, сродни "а в Африке дети голодают!". Да, это культурный код и тест на обнаружение себя в пространстве или, если хотите, благополучия души, примерно как у Набокова в "Других берегах".
Эту прелесть надо беречь и обязательно читать, чтобы оторваться от земли в высокий мир, в мир тонкой психологии, в чувствование человека, озабоченного сугубо человеческим, с решенными "животными" проблемами или вовсе без внимания к ним. Тут вам и наносные приметы времени - сословия, ранги, обычаи, сложносочиненное общество, и тонко (до крайней степени филигранно) настроенная нервная системы, улавливающая мельчайшие движения "эфира".
Не всем явно, и не в любой момент времени. Сначала дозреть и успокоиться, дорастить душу и постичь дзэн.
Не могу согласиться со схожестью с Набоковым. Да, у обоих текст красив, но у Набокова всегда есть четко прослеживаемый сюжет. А в этой книге я увидела только хаотичный поток сознания. Причём именно хаотичный.
Похоже до такой литературы я ещё не доросла… остановлюсь на первой книге цикла.
В романе (хотя я не уверена, роман ли это) плавное, я бы даже сказала вялотекущие повествование. Динамики нет совсем. Хотя какую динамику можно ждать от монотонного описания жизни аристократов и воспоминаний. Сама атмосфера книги показалась мне какой-то печальной и меланхоличной. Но красивой, тут не поспорить.
В книге больше внимания уделяется чувствам героя, восприятию окружающего мира, нежели каким-то событиям. Они скорее идут фоном. Как описание ожидания поцелуя матери перед сном. Казалось бы, зачем такому обычному действию посвящено столько времени. Причём эти чувства описываются очень подробно.
При всей моей симпатии к скучным книгам, я периодически ловила себя на мысли, что если бы не игра, лежать бы этой книге и лежать дальше, желательно в сторонке от меня. Вот уж точно не летняя книга! Поток сознания главного героя чем-то даже напомнил мне «Улисс». Прыгать в его возрастных воспоминаниях было сложновато. Всё это самокопание во внутреннем «я», анализ собственных чувств явно не моё.
После первой книги начинаешь подозревать, что Пруст неспроста назвал свой цикл именно так. Возможно, он на что-то намекал, и тот, кто осилил все 7 книг, подтвердит это.

Скажу честно, я накинула пару баллов переводчику за прекрасный язык. Можно читать и наслаждаться. Минут пятнадцать можно, а потом надоедает, голова тяжелеет, глаза слипаются и хочется спать. Нельзя сказать, чтобы я не любила книги без действия, заполненные одними рассуждениями. Некоторые очень даже люблю. Только вот рассуждения должны быть разными. С Прустом совсем не так. У меня сложилось впечатление, будто бы я слушаю речь не вполне трезвого человека, который то ли не помнит сказанного, то ли считает меня дурой, не способной понять с первого раза.
Роман - это поток сознания, воспоминания о детстве. И вся первая часть посвящена впечатлениям от встречи с неким Сваном (интересно, я одна думала, что Сван - это город) и "глобальнейшей" проблеме - переживаниям о том, что мама не поцеловала юного героя на ночь. Эти поцелуи обсасываются со всех сторон, так что хочется взвыть.
Расскажет автор и о любви Свана, достаточно банальной как по мне и неинтересной. И снова мысли, переживания, по первому, по второму кругу... я не знаю, как можно читать это словоблудие.
P.S.: Не судите, люди добрые, я девушка простая, из рабочих, институтов не кончавшая. Ни разу ни эстетка и до Прустов ваших не созревшая. Не дано мне, что поделать. Потому и не прониклась красотой и величием. Мне б попроще чего.

Очень - очень давно книга не приносила мне таких мучений. Зачем всё это было написано? Для чего? Какую цель преследовал автор? Мне показалось, что это просто бессмысленный поток личных переживаний, излитых на несчастную бумагу, которая, как все знают - всё стерпит. Сплошное пустое словоблудие. Сюжета нет от слова совсем. Да, язык можно назвать красивым, но через пару десятков страниц хочется большего. Хочется, чтобы хоть что-то происходило! И что-то весомее переживаний героя о том, что он не поцелует маму на ночь или подробного описания того, как он читает книгу.
Герой немного рассказывает о своих родственниках (таких же скучных, как и он сам), много о себе (скорее о своих эмоциях, так как с ним ничего интересного не происходит), очень много о Сване. Помимо прочих огромных недостатков, повествование нелинейное, и эти скачки во времени сильно раздражали.
Стиль автора совершенно не мой, и наша с ним новая встреча возможна, только если это понадобится по условиям игры, подобной этой. Добровольно на Пруста вряд ли когда-то снова решусь.
Я почему-то боялась, что Пруст доставит мне множество мучений. В первую очередь из-за того, что его часто сравнивают с Улисс, называя одним из двух тяжелейших китов литературы. И вот почти случайно преодолев первого из них я решила взяться за второго. Какого же было моё изумление, когда вместо сражения с неповоротливыми, почти несъедобными сентенциями я легко и мягко уплыла в причудливый мир грёз и туманного прошлого Марселя Пруста.
Как минимум часть заслуги принадлежит новому переводу Баевской, которая взялась за сей титанический труд 10 лет тому назад и к настоящему моменту подготовила переводы трёх частей, за что я ей безмерно благодарна. Но уже сейчас, оставив позади только первую часть этого труда мне немного страшно, что аж четыре части всё ещё не окончены и нет никаких сведений, по крайней мере я не смогла их найти, что работы над ними ведутся, что когда-нибудь они появятся на свет и остаётся только хрупкая надежда, почти такая же невесомая, как поцелуй матери главного героя, который тот нёс к себе в комнату из общей гостиной, полученный наспех и без должного внимания к этому магическому детскому оберегу.
Я всё ещё нахожусь под впечатлением от той магии слов, что Пруст наслал сквозь время и расстояние на своих читателей. В голове перемешались боярышник и орхидеи и их обманчивые, неуловимые ароматы, шпили церквей, то тающие вдали, то внезапно возвышающихся прямо перед нами, будто неожиданно проснувшиеся ото сна великаны, а также дама в странновато пышном наряде с чудесной дочерью Жильбертой, чьё имя переливается и тает, как медовые нотки на кончике языка. Ах, какой удивительный мир мне открылся под завесой дымки и тумана, беспощадно ускользающем в лучах утреннего солнца, и как жаль мне покидать его, даже сознавая что ещё смогу туда вернуться, но уже предчувствуя горькие минуты окончательного расставания.
#книжный_марафон2023
#дом_дракона
#БК_2022 (Книга без рецензии)
Мне жаль, что я бросилась читать вторую книгу цикла В поисках утраченного времени сразу же после первой. С одной стороны, это было правильное решение, потому что мне не терпелось продолжить удовольствие от чтения Пруста. С другой - я не учла, что времени на чтение в ноябре-декабре у меня почти не будет, а Пруст - это не тот писатель, которого почитывают перед сном.
Поэтому чтение получилось очень растянутым и рваным, что не позволило выжать максимум эмоций и проникнуться книгой как следует. И тем не менее. Вторая книга не менее прекрасна, чем первая. Возможно, первая меня тронула чуть больше из-за детских воспоминаний и драматической любви Сванна.
Но мне было очень интересно, чем закончится эта страсть Сванна и во что выльется влюбленность главного героя Жильбертой.
Первая часть «Девушек» как раз об этом. Удивительно, но тот исход отношений Сванна и Одетты, который напрашивался в первой книге и который меня заранее удручал, реализовавшись, переставил почему-то все акценты, и показался даже где-то правильным. Одетта получила желаемое и превратилась в довольную жизнью женщину. Наверное в такую, о которой мечтал Сванн в пору его мучительной влюблённости в неё. Но именно эта перемена, которая по идее должна была привести все к гармоничному балансу, на деле потушила огонь, который питал болезненную любовь Сванна. Сванн излечился, но вместе с болезнью ушла и любовь.
Книга поделена на две части. В первой - главный герой в Париже, и мы во всех деталях можем прочувствовать подробности образа жизни зажиточных жителей этого города, включая прогулки, салоны, театры, публичные дома и прочие радости. Гг влюблен в Жильберту, и Пруст очень точно и ярко передаёт все нюансы первой влюблённости. Это пока скорее платоническое чувство, и вполне вероятно, главному герою важен не сам объект его любви, как собственные переживания. Такое подозрение укрепляется во второй части книги, где гг с бабушкой проводят лето в курортном Бальбеке.
Здесь Марселя настигает новое чувство, уже с нотками влечения, но оно пока все такое же неопределенное, вызванное потребностью испытать любовь.
Первая часть - это Париж и Жильберта, это мечты и фантазии, которые лучше реальности. (Настоящая Жильберта далека от выдуманного образа; настоящая оперная дива оказывается не настолько хороша, насколько ее нарисовало воображение).
А вот вторая часть - это Бальбек и Альбертина, это реальность, которая подчас может быть даже лучше грёз. Правда, это открытие главный герой делает не сразу. Поначалу он все ещё во власти своего бескрайнего воображения, которое затмевает любую реальность. Так, например, знаменитая бальбекская церковь, о которой он много читал и представлял бог весть каким восьмым чудом света его совершенно разочаровывает при ее осмотре. И только после общения с художником Эльстиром главный герой начинает постигать и видеть и другую красоту, заключённую в простоте ли линий, игре ли светотени, или талантливом исполнении настоящего мастера, которое не в состоянии оценить непосвящённый.
Пруст выбрал очень точное и поэтичное название для второй книги. Главный герой действительно словно находится «под сенью девушек в цвету». Он упивается обществом Альбертины и ее подруг в Бальбеке, он ощущает радость просто находясь рядом с ними, он наслаждается их юностью и свежестью, понимая, что эта молодость и эти эмоции, к сожалению, мимолётны, и оттого так ценны.
Очень хочется тут же ринуться читать третий том, но, наверное, стоит подождать, чтобы не повторить вновь ошибку.
"главному герою важен не сам объект его любви, как собственные переживания". Как по мне так это лейтмотив всего цикла: я, я, и мои страдания. Порой это жутко раздражало.
Я давно шла к Прусту, но все не решалась. Где-то интуитивно я подозревала, что мне понравится его проза, но все же опасения, что «не в коня корм» оставались. Как оказалось, напрасно. Я получила два дня ощущений, в чем-то схожих с медитацией. Невероятно поэтичный язык Пруста уносит в далекие дали и одновременно погружает на глубокие глубины.
Это на самом деле образец тончайшего понимания человеческой психологии. Даже удивительно, как свежо выглядят в 21-м веке переживания и эмоции персонажей из 19-го. И в то же время как замечательно точно и осязаемо передана атмосфера эпохи: через моду и кухню, архитектуру, живопись, литературу, упоминание известных людей того времени, городов, ресторанов и курортов, а также через условности и царившие гласные и негласные правила поведения в обществе.
Роман во многом автобиографичен, и благодаря его тексту, а также комментариям (и гуглу, куда ж без него), открывается множество подробностей о том, чем жил Пруст, что занимало его мысли и чувства. Очень интересно было отыскивать реальных людей, прототипов персонажей романа, при том, что с одним из них, графом Робером де Монтескью, я уже встречалась у Барнса в «Портрет мужчины в красном» и у Гюисманса в «Наоборот» .
У Пруста граф де Монтескью выступил в роли барона де Шарлюса. В первой книге цикла встречи с ним носят эпизодический характер, но все же появления барона встречались мной с особым чувством, как встречи со старым знакомым.
«В сторону Сванна» состоит из трёх частей. Первая, наиболее поэтичная, ярко и трепетно передаёт детские чувства главного героя, его воспоминания, связанные с пребыванием с семьей в Комбре. И главное - нежную любовь к первой женщине в его жизни - матери и неутоленную потребность в проявлениях материнской любви. Парадоксально, но этот дефицит внимания со стороны матери проистекал не из-за личностных качеств ее или характера, - мать как раз очень любила сына, - а из-за воспитательных норм, принятых в то время.
В этой части мы впервые знакомимся с господином Сванном, другом семьи, с которым в последующем судьба еще сведет повзрослевшего главного героя. Родные главного героя воспринимают его как некую обыденность, хотя на деле Сванн - утонченный эстет, коллекционер, разбирающийся в искусстве, и к тому же весьма светский человек, вхожий в лучшие дома аристократии. Однако он не выставляет напоказ свои достоинства и вообще предпочитает обходить темы, касающиеся его самого, его знакомств и жизни, и оттого в Комбре с ним обращаются как с простым, ничем не выдающимся соседом.
Вторая часть посвящена как раз Сванну, а точнее истории его несчастной любви. Забавно, что Сванн едва ли не силой заставил себя влюбиться в Одетту. Поначалу ведь он отчетливо понимал, что Одетта не принадлежит его кругу, что она неумна и вульгарна. Что она даже не в его вкусе.
Но тонкий эстетический вкус и восхищение шедеврами живописи сыграли злую шутку со Сванном. Случайно найдя сходство Одетты с персонажем фрески Боттичелли, он, который до этого едва ли не пренебрегал явным вниманием Одетты, вдруг полюбил выдуманный образ и постепенно превратился в ее безвольного раба.
В третьей части книги пути Сванна и юного Марселя вновь своеобразно пересекаются, и где-то становится ясно, что и главный герой уже готов попасться в такую же ловушку, в которую когда-то угодил Сванн.
Книга явно не для всех. Пожалуй, не стоит читать ее тем, кто ищет сюжета и динамики. А вот тем, кто любит красивый язык, поэзию в прозе, для кого чувства и переживания героя, его размышления уже сами по себе - сюжет, книга может доставить настоящее удовольствие.
Ну и те, кто интересуется различными историческими эпохами, переданными через ощущения их современников, а также любители интеллектуальных текстов с множеством аллюзий на литературу, историю, религию и искусство, тоже смогут проникнуться этим романом.
ПС. Я читала в новом переводе Елены Баевской; мне не с чем сравнить, но мне показалось, что перевод прекрасный.
@masyama, о, почитайте, как перевели те, чьи книги издали) Кстати, в основном первую часть и так и сяк переводят. Например, на итальянский можно перевести практически буквально, что и сделали (у меня есть в итальянском переводе). Наши переводчики кто во что. В итоге самым читабельным переводом является перевод Маршака. У него передан смысл и юмор, но довольно далеко от подстрочника. Смотрела два других перевода, там читать невозможно) Маршак, кстати, не стал заморачиваться с «общеизвестной истиной», а написал просто «всем известно»)
@neveroff, Пруста только в нужном настроении надо, я дважды начинала, и только с третьей попытки получила удовольствие) А вторая часть буксует - некогда читать совсем, а мне нравится, когда начал - и не отрываясь)
@natalya.s.alex, ну, попробуй) Только если сразу не зайдёт, отложи до лучших времён, не читай через силу
Произведение на любителя, я вам скажу честно.
Приношу извинения автору, но как я познакомилась с романом и творчеством впервые, так и хочу на этом общение закончить. К сожалению, не мое.
Начнем по порядку. Роман - первый из семи в цикле "В поисках утраченного времени".
О чем? О Сване - это логично, но не только.
В романе мы видим историю. Но очень странную, сбивчивую, непоследовательную и сумбурную. Строится роман из нескольких частей, каждая из которых - рассказ о Сване. Но подано это весьма интересно с литературной точки зрения - через призму Марселя. Его субъективный взгляд на протяжении всего романа меняется, а вместе с тем видоизменяется и образ Свана - интеллигентный аристократ, влюбленный глупец, состоятельный отец.
А вместе с тем сам рассказчик, Марсель, на своем примере показывает, как изменчивы не только люди вокруг, но и сами чувства, восприятие и мысли героя.
Но повествование показалось мне тяжелым. Местами я продиралась сквозь эти буквы и ждала чего-то, что могло мне помочь в дальнейшем.
И это несмотря на то, что язык романа очень и очень плавный. Он настолько располагает к себе, что ты плывешь по течению этих букв и наслаждаешься.
Да, единственное, что меня зацепило - это язык. Во всем остальном роман не оказался моим другом и фаворитом.
Страницы← предыдущая следующая →
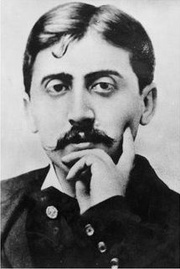
Фото Марсель Пруст
- Книги (9)
- Рецензии (23)
- Цитаты (21)
- Читатели (530)
- Отзывы (0)
- Подборки (1)
Лучшие книги - Топ 100



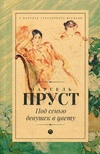

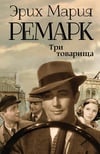


@julie, я сейчас специально нашла Пруста на французском и что ты думаешь? Вот как звучит пассаж про якобы неблагозвучную фамилию по мнению сослуживцев: Pendant le peu de temps qu’il avait passé dans l’armée, ses camarades, trouvant trop long de dire Cambremer, lui avaient donné le surnome de Cancan, qu’il n’avait d’ailleurs mérité en rien. То есть перевод Федорова правильный, а Любимов переиначивает текст, заменяет «длинный» на «неблагозвучный» в поддержку своей версии видения фамилии. Потрясающе, просто нет слов!
@bedda, я про замененную фамилию узнала только при перечитывании. Спасибо за объяснение, а то я не понимала, что там Любимов узрел крамольного. Пишут/говорят, что типа неблагозвучно, но без подробностей, и я не догоняла)
Слышала, что у Баевской серьезные проблемы со здоровьем, так что перевода дождаться бы...
@julie, //Слышала, что у Баевской серьезные проблемы со здоровьем// - правда? Как жаль.. Искренне желаю выздоровления, если это так..