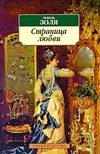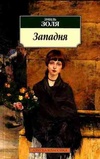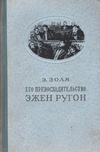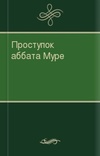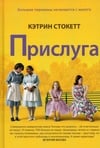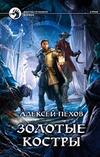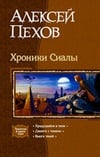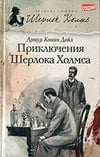Эмиль Золя рецензии на книги - страница 5
Тематико-стилистическое разнообразие эпоса Эмиля Золя «Ругон-Маккары» объясняется не только одной из ключевых задач (ощупать слона - Вторую империю - со всех сторон), но и хронологией написания: так, после беспощадного живописания социального дна в «Западне» появился «стакан сиропа» - роман «Страница любви», после чего автор снова впал в свирепость в романе «Нана»; примерно такого же свойства метаморфоза произойдёт ближе к концу («Земля» - «Мечта» - «Человек-зверь»).
Нечто похожее наблюдается и здесь: обличив пороки буржуазного муравейника в «Накипи», Золя принялся за изучение более светлой стороны общественной жизни - стремительного роста торговых предприятий.
Разумеется, методология натурализма требовала максимальной скрупулёзности: необходимо было детально изучить функционирование этих магазинов («Бон-Марше», «Лувр», «Пти-Сен-Тома» и пр.) - от внешнего и внутреннего устройства и общей выручки до стоимости обеда в столовых и положения сотрудников.
Как и в «Накипи», представитель исследуемого рода, Октав Муре, чья наследственность принуждает его к бурной деятельности и к стремлению обладать и подчинять, отступает на второй и третий план: в центре повествования - полученное им в результате удачной женитьбы предприятие, магазин «Дамское счастье». Та же участь постигла и номинально главную героиню - провинциальную девушку Денизу, перебравшуюся в Париж к дяде, владельцу захудалого магазинчика напротив «Дамского счастья»: она - скромная, неказистая и работящая, её характер далёк от натурализма и, скорее, принадлежит эстетике буржуазного романа или даже сказке о Золушке.
Как и в случае с «Чревом Парижа», где описание Центрального рынка затмевает всех персонажей и связанные с ними перипетии, главное в романе «Дамское счастье» - одноимённый магазин, вырастающий до размеров огромного натюрморта, изображающего прелести посюстороннего мира; это несколько напоминает отношение к вещам в эпоху позднего Средневековья:
«Люди этого времени, страстно привязанные к вещам, противились мысли об уничтожении и исчезновении. Поэтому они должны были по-новому ценить изображение вещей, дающее им как бы новую жизнь. Так родилось тогда искусство натюрморта - запечатления неподвижных, застывших вещей, дорогих человеческому сердцу» (Арьес).
Предметный мир романа, выписанный с неизменным художественным талантом, уходит от строгости научного исследования к поэтической образности:
«Но восхищение созданиями человеческих рук всё чаще здесь звучит как прямое обожествление, культ материи. Предметы вырываются из уз бытового правдоподобия, перемещаются из плана «натурального» в план образный. Вещи одушевлены, они живут в романе торжествующе и победоносно, порой заслоняя человека и чуть ли не заменяя его» (Кучборская).
Вопреки избранному автором методу «научного» романа («моя главная задача - оставаться чистым натуралистом, чистым физиологом»), трудно найти произведение, в котором «исследуемая» среда НЕ тяготеет к символизму: достаточно вспомнить оранжерею в «Добыче», Рынок - «Чрево Парижа», Параду в «Проступке», трактир «Западня» или буржуазный муравейник в «Накипи»; то же случилось и с «Дамским счастьем»:
«Этот большой магазин, этот вертеп, полный наслаждений и опасностей, превращается у нашего «натуралиста» в пагубный рай. Всякая женщина, входящая в него, отчасти теряет рассудок» (Труайя).
Несмотря на поставленную задачу («больше никакого пессимизма», «показать триумф современной деятельности», «выразить век… век действия и победы»), среди лучших страниц романа - те, что посвящены как раз таки жертвам: мелким торговцам, которые попадают под «паровую машину» крупного предприятия, а также сотрудникам этого самого предприятия, нещадно эксплуатируемым рабочим.
Среди первых выделяется старик Бурра, чей образ, пожалуй, выразительней всех прочих, включая главных героев. Это старик «со львиной гривой, крючковатым носом и пронзительными глазами под жесткими пучками бровей. У него был грубый голос и жесты сумасшедшего; матери пугали им детей, как пугают полицейским, грозя, что пошлют за ним. А мальчишки, проходя мимо его лавки, вечно выкрикивали какие-нибудь гадости, которых он, казалось, не слышал. Вся ярость этого маньяка обрушивалась на негодяев, которые бесчестят его ремесло, торгуя всякой дешёвкой, всякой дрянью, вещами, от которых, как он говорил, отказалась бы и собака».
Сотрудники «Дамского счастья» бесправны и полностью зависимы; «призрак нужды», постоянное беспокойство за своё будущее всё время с ними. Но всё же, сочувствие жертвам лишь эпизодически появляется на страницах этого пронизанного протестантской этикой романа:
«Действовать, создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать или быть побеждённым - вот в чём вся радость, вся жизнь здорового человека!».
Таким образом, можно заключить, что стремление изобразить другую сторону жизни привело к небольшому парадоксу: от бичевания буржуазной морали в «Накипи» Золя в «Дамском счастье» перешёл, практически, к её воспеванию.
__________________
«Дамское счастье» - оптимистическая поэма новой торговли (Фурье, Прудон и Маркс, сбрызнутые романтизмом); в остальном - буржуазный роман о Золушке.

___________
Читатели бывают не в курсе, что целых двадцать романов Эмиля Золя объединены в цикл Ругон-Маккары. И дело здесь не столько в плохой информированности, сколько в нестандартном замысле: в отличие от большинства семейных саг история Ругонов и Маккаров не просто не имеет последовательного сюжета или персонажа, проходящего через все книги, но и само время в них нелинейно; это позволяет автору максимально подробно и с разных точек рассмотреть интересующий его период - Вторую империю.
Некоторые романы, однако, бывают связаны тематически: «Завоевание» и следующий за ним «Проступок аббата Муре» - антиклерикальные (священник-палач и священник-жертва), «Добыча» и «Его превосходительство Эжен Ругон» - о своре дельцов, алчущих денег и власти, «Страница любви» и «Нана» - о свойствах страсти и похоти; роман «Накипь», в свою очередь, запараллелен с романом «Западня» - только речь уже идёт не о городских низах, а о буржуазии.
«Показать буржуазию без прикрас, после того, как был показан народ, и показать её, считающую себя порядочной и честной, ещё более отвратительной, чем всегда» (Золя).
В пансионат, где обитают мелкие буржуа, вселяется юный и весьма амбициозный провинциал, ставящий своей задачей покорение Парижа. Нет, это не Бальзак с его «Отцом Горио», и главного героя зовут не Растиньяк, а Октав Муре - сын Франсуа Муре и Марты Ругон из «Завоевания». Впрочем, уже со второй главы нарративный фокус смещается на семейство Жоссеран, где отчаянно пытаются выдать замуж двух девиц, да и в дальнейшем в повествовании мельтешат различные огюсты, кампардоны, теофили, дюверье, башелары, анжели, адели, клариссы, берты, валери и прочие, что делает этот не самый большой по объёму роман крайне утомительным, Dostoevsky style.
Кроме того, это бурление буржуазной жизни несколько скрадывает общий замысел:
«Суть представленной в «Накипи» истории ясна своей важностью, но очень трудно уловима за предложенной читателю событийностью» (Трунин).
Тема роковой наследственности в данном романе практически отсутствует: характер Октава Муре и доставшаяся ему idée fixe - обладание женщинами - раскроются в следующем романе. Как и в случае, например, с романом «Чрево Парижа», средовой элемент довлеет над всеми прочими - отдельные герои, даже такие важные, как Ругоны и Маккары, растворяются в толпе.
Если в «Западне» пороки нещадно обличаемой автором среды видны и очевидны, здесь же они скрыты завесой лицемерной порядочности, но суть отличается не сильно: в этом колодце нечистот так же распадаются семьи, так же бурлят корысть и похоть.
«…Обещать деньги, которых и в помине нет! О! Их отдадут тебе, дочь моя, или я вытащу старика из могилы и плюну ему в физиономию!».
Разумеется, занимающий центральное место в повествовании пансионат лишь притворяется домом высокой культуры быта: жильцы его - лицемеры, стяжатели, развратники, алкоголики и прочие пакостники; ежедневный фон - ругань и льющиеся из окон помои. Показателен эпизод, когда беременную нищенку изгоняют из этого дома, а впоследствии его обитатели узнают, что, доведённая до крайности, и, видимо, спятившая женщина разрезала ребёнка надвое и спрятала в шляпной картонке. Под фасадом приличия жильцы скрывают самые низменные побуждения и поступки; точно так же за кажущейся ординарностью откровенно скучного повествования автор прячет самые драматические события, и не каждый читатель доживёт до своеобразной кульминации - ночной сцены незапланированных родов служанки Адели, которая даже не в курсе, кто же из господ её таким образом одарил.
Данным романом Золя приобщает целый класс буржуа к ретроградным и враждебным прогрессу слоям общества, которые были обличены ранее - лавочники в «Чреве Парижа», нувориши в «Добыче», политические элиты в романе «Его превосходительство Эжен Ругон», священники в «Завоевании» и «Проступке аббата Муре».
Неудивительно, что роман об оборотной стороне прилизанного буржуазного быта привёл в негодование именно буржуазного читателя, а критика, снова именовавшая произведение «бесстыдной порнографией», призывала «отомстить за оскорбления, нанесённые Парижу Эмилем Золя». Впрочем, к бурлению оскорблённых чувств Эмиль уже начал привыкать. В случае с «Накипью» он настаивал на социальной и нравственной направленности романа:
«Ни одна страница, ни одна строчка не были написаны мной без стремления придать им нравственный смысл».
Кроме того, кто-то из редких сторонников романа весьма точно заметил:
«Описывать тот или иной общественный уклад не значит его создавать: не сатиры Ювенала повинны в развращенности Рима».
__________
«Накипь» - буржуазная вариация романа «Западня»; исследование глубин падения буржуазии на примере одного конкретно взятого муравейника.
Примечание
___________
Словарь французского языка подсказывает, что Золя подразумевал - источающий миазмы «котёл», в котором смешаны разные ингредиенты и где бурлят самые низменные страсти. В России роман, ныне известный как «Накипь», выходил под названиями: «У пылающего очага», «Домашний очаг», «Кипящий горшок», «Лицо и изнанка», «Трясина», «Вертеп» и даже - «Побуль».
Согласна с Сашей, разносторонняя и интересная рецензия, спасибо Вам.

Оставив позади лирическое отступление в виде романа «Страница любви», исследователь человеческих документов и летописец Второй империи вернулся к излюбленному занятию - дразнить ханжески настроенных дураков, попутно экспериментируя с литературным творчеством как таковым:
«Я сознательно работаю для пансионерок, я делаюсь плоским и серым. А потом, в «Нана», опять впаду в свирепость» (Золя).
Пожалуй, именно собирание фактов для этого романа было самым увлекательным, ведь наш неутомимый натуралист не ограничился опросом товарищей, более сведущих в жизни парижского «полусвета» - он сам, аки шпион, коварно проник под видом рабочего в дом модной в то время куртизанки, а в дальнейшем был приглашён туда на ужин: литьё шампанского в пианино, толпы бражников и блудниц - это всё перекочевало на страницы «Нана». Кроме того, Золя изучил устройство театра, побывал на скачках и почитал воспоминания свидетелей эпидемии оспы.
О том, в какой среде прошли юные годы героини, Анны Купо, дочери Жервезы Маккар, можно узнать из романа «Западня»; я напомню лишь один из самых ярких эпизодов: совсем маленькая Анна видит, как однажды её мать сдаётся под напором бывшего сожителя Лантье. Впоследствии интрижка продолжится, а через время уже сама Анна начнёт сбегать из своего дома в поисках приключений и лёгкого заработка.
Отец-алкоголик и мать, происходящая «из семьи пьяниц и развратников», передали дочери не самое радужное генетическое наследство (что, впрочем, справедливо для большинства других представителей рода). Любопытней другое - Лантье, который, казалось бы, не связан кровными узами с героиней, тем не менее, тоже повлиял на её гены. В «Родословном древе» читаем про Анну - «Смешение путём сочетания. Преобладает духовное сходство с отцом. Благодаря наследственному влиянию, физическое сходство с Лантье, первым любовником матери». Оп-па. Здравствуй, телегония, представление о том, что предыдущие партнёры женщины непостижимым образом оказывают влияние на её потомство. Впрочем, не будем слишком строги к «научному» роману, написанному полтора века назад.
После того, как нищая Жервеза сделала Эмиля весьма богатым, он начал обустраивать свой быт и делал это весьма пафосно:
«…колоссальный камин, в котором можно было бы на целом дереве зажарить целого барана. В глубине - нечто вроде алькова размером с одну из наших крохотных парижских спаленок, полностью занятого единственным диваном, на котором с лёгкостью могли бы улечься спать шесть человек… Повсюду виднелись японские и китайские безделушки, медные жардиньерки, статуэтки из слоновой кости, средневековые доспехи, разноцветные витражи» (Труайя).
Вот поэтому поражающие своим размахом и пошлостью интерьеры в романе (особливо - спальня героини) изображены автором не только с чувством, но и со знанием дела.
И вот перед нами уже Нана - сначала хриплоголосая и пышнотелая актриса театра «Варьете», а затем - модная куртизанка, за которой образуется шлейф из поклонников всех возрастов и социальных групп:
«Разорённый ею человек падал из её рук, точно зрелый плод, которому предоставлялось догнивать на земле».
Увлечённые героиней граждане тратят состояния, рушат семьи, оказываются в тюрьме, уезжают за море, жгут себя, самоубиваются ножницами и совершают другие аффективные поступки; автор даёт всему этому ёмкое и беспощадное определение - «целое общество, ринувшееся на самку».
Этим роман «Нана» близок «Его превосходительству Эжену Ругону», ведь здесь та же агония прогнившего общества, та же свора беспринципных и алчных существ в погоне уже не за властью, но за женщиной, которая со своим «птичьим умом» «царит над всеобщей глупостью». Аллегорией животного начала является сцена на ипподроме - вот так, по мысли автора, всё общество Второй империи было увлечено погоней за наслаждением.
Если другие героини Золя - лишь игрушки в руках Судьбы, то Нана не просто приговорена наследственным неврозом и давлением среды к распутству и порочности, она сама ещё и Немезида, орудие Рока, нетривиальный способ мщения высшим слоям общества со стороны униженных и оскорблённых:
«Она отомстила за мир нищих и отверженных, из которого вышла сама. Окружённая ореолом своего женского обаяния, она властно поднималась над распростёртыми перед нею ниц жертвами, подобно солнцу, восходящему над полем битвы, оставаясь в то же время бессознательным красивым животным, не отдающим себе отчёта в содеянном».
Ранее Золя можно было заподозрить в некотором сочувствии своим героям (в основном, героиням), то в данном случае всё однозначно, и поэтому автор не скупится на хлёсткие эпитеты: Нана - «безукоризненная кобыла», «красивое животное», «туча саранчи», «навозная муха», «чудовище, ходящее по трупам»…
Как и в случае со многими другими персонажами эпопеи, образ Нана неизбежно стремится от реализма к символизму: финальные сцены романа живописуют целую империю в преддверии краха. Апокалиптический подтекст финального лейтмотива (крики толпы «На Берлин!») снова возвращает на страницы летописи Историю - совсем скоро битва под Седаном положит конец «эпохе безумия и позора».
Дураки и гуси
_____________
Роман был раскуплен мгновенно, тут же началась допечатка: общий тираж составил 55 000 экземпляров - цифра в то время небывалая. Небывалым по размаху стал и вызванный романом скандал. Некоторых издателей привлекали к суду, библиотекаря в Дрездене, выдавшего «Нана», оштрафовали, цензура клеймила произведение за оскорбление чувств ве… в смысле, за оскорбление общественной нравственности, а в Дании и Англии роман и вовсе был запрещён.
Не остались в стороне и критики, которые снова именовали Золя «порнографом», недвусмысленно указывая на наличие у него некоторых девиаций и в целом на всяческую развращённость, сравнивали с маркизом де Садом, грозили написать коллективную жалобу в соответствующие структуры, ибо «нельзя безнаказанно развращать умы всякой грязью»; к новым эпитетам добавились «сточная канава» и «клоака» (о творческом методе Золя) и «ассенизатор» (о нём самом).
Русская критика всех направлений обошлась со своим бывшим любимцем не менее решительно, обвинив роман в безыдейности и отсутствии положительного идеала; к примеру, Л.И. Мечников (aka Басардин), утверждал, что «Nana самый плохой из романов Золя», Салтыков-Щедрин поименовал это произведение «бестиальной драмой» и «романом, в котором главным лицом является сильно действующий женский торс», а некто Темлинский выпустил брошюру «Золаизм в России», где ругательски ругал французского писателя, называя его «шарлатаном» и «дерзким нахалом, пишущим отвратительные пошлости»…
Впрочем, среди хора проклятий прозвучали голоса немногочисленных поклонников романа: Флобер читал «Нана» всю ночь и совсем «обалдел», о чём и сообщил в письме к Эмилю, другой критик отметил, что Золя - «человек, который ничего не боится и дерзко подносит факел к грудам нечистот… По крайней мере он делает своё дело честно, грубо и никогда не идёт против своей совести. Браво!».
_______
«Нана» - история трущобной Немезиды, «рока с ангельским лицом»; беспощадная и провокационная поэма вожделения, живописующая агонизирующее общество в погоне за пороком.

О свойствах страсти
______________________
В четырёх из семи предыдущих частей эпопеи Ругон-Маккары действие происходит в Париже, однако именно в «Странице любви» изобразительный талант Золя представил город наиболее масштабно и значимо; настолько, что он перестаёт быть просто фоном и вырастает до уровня действующего лица.
Но не этот увлекательный факт привлекает основное внимание. Главной неожиданностью для критики и публики стал явный контраст со всеми предыдущими романами: в «Карьере Ругонов» показано, как на крови и предательстве создавалась Вторая империя; «Добыча» и «Чрево Парижа» бичуют дельцов и буржуа соответственно; дилогия «Завоевание» и «Проступок аббата Муре» направлены против клерикализма, а «Его превосходительство Эжен Ругон» изображает свору авантюристов, одержимых жаждой власти. И ещё не утихли страсти, связанные с беспощадным социальным романом «Западня», где автор «изображал ад, и изображал его так, что всякому хотелось на этот ад взглянуть» (Труайя).
«Страница любви», на первый взгляд, лишена социального вовсе: эта история внезапной любви матери-одиночки к замужнему врачу. Однако сам автор прекрасно понимал, что делает:
«Получится противопоставление, и меня зачислят в порядочные романисты. Я сознательно работаю для пансионерок, я делаюсь плоским и серым. А потом, в «Нана», опять впаду в свирепость».
Кроме того, Золя, неутомимый исследователь темпераментов и сред, хотел, чтобы в его хронике были «наблюдения всех видов»:
«Я должен изучить зарождающуюся и великую любовь так же, как изучал пьянство».
Элен - дочь шляпника Муре и Урсулы Маккар, проводницы наследственного невроза, идущего от праматери рода Аделаиды. Элен досталась склонность к страсти, а её болезной дочери Жанне - у которой «наследственность сказалась через поколение» - повышенная нервозность.
Подготовка к созданию «Страницы» заключалась в блуждании по красивым парижским местам, а также в изучении медицинских и психологических трудов, в частности, о подростках. Видимо, поэтому отдельной похвалы заслужил образ Жанны - «характер ревнивого ребенка - один из самых ярко очерченных детских характеров во всей нашей литературе» (Эжен Асс).
Больной ребёнок и становится причиной знакомства Элен с доктором Деберлем, а также его супругой Жюльеттой и небольшим буржуазным салоном. Этот салон, собранье пошлых скучающих тёток, способных лишь на интрижки и сплетни, являясь единственной - и довольно слабой - приметой социального, символизирует буржуазный мир. Интрижка Жюльетты противопоставлена «солнечному удару», тому глубокому чувству, которое внезапно приключилось между Элен и Деберлем.
Даже в этой, на первый взгляд, непритязательной истории автор ставит эпическую задачу: если «Илиада» - это развитие гнева Ахилла и творческое осмысление концепта войны, то «Страница любви» - это динамика чувства Элен и «всеобщая история страсти».
Ассоциации с античной литературой, никак не дававшие мне покоя, были пояснены в приложенном к роману «Письме Золя»:
«И вот с двадцати лет я мечтал написать роман, в котором Париж с океаном его кровель стал бы действующим лицом, чем-то вроде античного хора. Мне представлялась интимная драма: три-четыре лица в небольшой комнате, а на горизонте огромный город, который неустанно смотрит своим каменным взором на смех и слезы этих людей».
[…]
Сцены Парижа в очередной раз демонстрируют близость Золя к живописи, в особенности, к импрессионистам (в данном случае - Клод Моне, цикл «Руанский собор»). Психологическое состояние героини и переживаемые метаморфозы чувств отражены и словно закреплены в пейзаже:
«Именно таковы задачи пейзажа в «Странице любви»: линия цвета прокладывает свой ход сквозь сплетения сюжета и звучит как ещё одна партия внутри полифонии романа, находя единство с психологической линией» (Кучборская).
И совершенно завораживающим, предвосхищающим Джойса, кажется финальный пейзаж с «бесконечным скольжением белых мух»:
«…[снег], казалось, падал не наяву, а во сне, заколдованный на лету, словно убаюканный. Чудилось, что хлопья, приближаясь к крышам, замедляют свой лёт; они оседали без перерыва, миллионами, в таком безмолвии, что лепесток, роняемый облетающим цветком, падал бы слышнее; забвением земли и жизни, нерушимым миром веяло от этих движущихся сонмов, беззвучно рассекавших пространство».
Интересно также проследить другую тему - трагическое несоответствие идеала и быта, мечты и опошляющей, приземлённой реальности. Как помнит читатель, столь лирическая тема была задана с первых же страниц «Карьеры Ругонов»: «братская любовь» юных представителей рода, Сильвера и Мьетты, контрастирует с трусостью, эгоизмом, ханжеством и лицемерием старших Ругонов. В «Проступке аббата Муре» мертвящему ригоризму церковных догматов противопоставлена любовь Альбины и Сержа, которую автор рассматривает как проявление извечного, прекрасного, жизнеутверждающего начала. «Страница любви» добавляет образ юной и болезной Жанны, столкнувшейся с ложью и лицемерием взрослого мира, что позволяет автору создать, пожалуй, самую пронзительную сцену в романе - оставленная одна дома Жанна смотрит на пасмурный и бурный Париж, чувствуя себя обманутой и брошенной.
Не жалея о написании «Страницы любви», Эмиль Золя всё же называл роман «довольно-таки непритязательной историей». Критика, видимо, уставшая поливать автора грязью, благосклонно восприняла новое произведение, столь разительно отличавшееся от скандализовавшего всех романа «Западня».
Золя хвалили за поэтичность, умение «проливать слёзы», глубокий психологизм «в духе Стендаля» и сравнивали роман с каплей ликёра (после «мутного вина» - предыдущего романа). И здесь вряд ли стоит упрекать натуралиста в стремлении потрафить буржуазным вкусам: он сам понимал, что создал «сладенькую историю», «стакан сиропа», однако, как я уже говорил, его эпическая летопись подразумевала и такую страницу.
Русская же критика подобное ослабление социального приняла прохладно, посчитав произведение наиболее слабым, однако было замечено, что в романе «есть некоторые превосходные страницы».
_________________
«Страница любви» - несколько сентиментальная поэма большого города, «трогательная и простая» драма о динамике страсти; роман, в котором конкретное уступает поэтическому - главным образом, импрессионистским образам Парижа в разное время и под разным освещением.

_______________
«Я обнажил язвы, разъедающие высшие классы, и, уж конечно, не стану скрывать язвы на теле народа» (Золя).
И снова Париж. Не блестящий позолотой новый Вавилон дельцов и великосветских шлюх, не занятый пищеварением мир мещан и лавочников и даже не город политических авантюристов; теперь в центре внимания рабочий квартал, в основе сюжета - влияние среды на жизнь городских низов.
И снова подготовка заняла изрядное время, ведь Золя необходимо было изучить не только архитектуру грошовых лавок и убогих домов, но и заглянуть в кабак, дабы внимательно осмотреть опустившихся и опускающихся любителей абсента, коньяка и прочих напитков, кроме того, наш прекрасный натуралист рискнул сунуть нос в прачечную, «заполненную расхристанными потными женщинами, грубо окликающими одна другую и колотящими бельё в облаках пара» (Труайя) - ведь как иначе узнать, сколько стоит жавелевая вода и как выглядят оцинкованные баки и валики для отжима?..
Как отмечают критики, автор не только использует простонародную лексику, почерпнутую из «Словаря жаргона» Альфреда Дельво, но и само повествование ведёт на «терпком и образном языке», который, увы, мне оценить не довелось - его оценят лишь владеющие французским языком граждане, ибо перевод данных особенностей не отражает. Само название ‘assommoir’, как утверждает словарь, является уст. и разг. словом для обозначения кабака; другие значения - «западня», «ловушка», «дубинка, налитая свинцом».
«Жертвы алкоголя»
____________________
Жервеза, дочь Антуана Маккара, сбежавшая с любовником Лантье в Париж («Карьера Ругонов»), ныне работает прачкой. Её гулящий любовник забирает последнее и оставляет её. Вскоре кровельщик Купо предлагает героине вступить в брак.
Условно роман можно разделить на две части: в первой изображены попытки трудолюбивой героини осуществить несложную мечту («…жить в своей собственной конурке, растить детей, умереть на своей кровати…»), вторая живописует её падение. Примечательно, что связующим звеном, водоразделом между «тогда и теперь», служит буквальное падение с крыши её супруга Купо - здесь находит отражение встречавшийся ранее («Добыча») мотив Судьбы. При всей разности положения Рене и Жервезы они обе находятся во власти среды, осознают, что и люди порой не то, чем кажутся, и обстоятельства - непреодолимы. Так, Жервеза «чувствует себя как монета, подброшенная в воздух: орёл или решка выйдет - это дело случая».
Постепенно накапливающееся под действием среды безразличие ко всему, ускоренное дешёвым алкоголем кабака с говорящим названием «Западня», приводит героев к пробиванию всевозможных социальных доньев и днищ: пьянство, проституция, нищета, побои и сумасшествие…
«Если в «Отверженных» борьба между Добром и Злом была ещё окрашена в романтические тона, то в «Западне» сквозь зловоние городского дна уже не пробивается и самая слабая струйка чистого воздуха. У Золя перед старым мастером было то преимущество, что он не пользовался розовыми очками, глядя на мир. Он изображал ад, и изображал его так, что всякому хотелось на этот ад взглянуть» (Труайя).
Но не только среда довлеет над героиней: не забывает автор и о другой важнейшей компоненте человеческой личности (см. Предисловие) - о наследственности, которая, как и для большинства других Ругонов и Маккаров, приобретает силу фатальной доминанты всей жизни. Недаром в «Родословном древе» Жервеза имеет примечание - «Линия отца. Зачата в пьяном виде».
Своеобразным антиподом сломавшемуся Купо выступает Гуже (словно по формуле «Купо минус алкоголь») - его образом автор открывает доселе не встречавшуюся у него тему возвеличивающего труда, труда как творчества:
«Взглянув без предубеждения на каждодневный обычный труд как на предмет искусства, писатель открыл в нём источник глубокого эстетического интереса, увидел подлинную красоту и высокую поэзию» (Кучборская).
Примечательными и, как минимум, достойными упоминания являются ставшие знаменитыми сцены: драка Жервезы и любовницы Лантье в прачечной (не зря, видимо, Золя туда заходил), свадьба с Купо (на последние деньги, с последующим спонтанным блужданием по городу и посещением Лувра), день рождения героини с огромным жареным гусем и прочими яствами (раблезианское чревоугодие отсылает к роману номер 3) - всё это сближает летопись Золя с изобразительным искусством, с картинами Курбе, Йорданса, Брейгеля.
Также важно упомянуть, что «Западня» является своеобразным прологом к роману «Нана» - дочь Жервезы всеми силами будет стремиться порвать с нищим прошлым и окажется… впрочем, всему своё время.
К недостаткам романа можно отнести всегдашнюю ходульность некоторых персонажей, а также относительную бедность сюжета, впрочем, осознаваемую самим автором - она проистекает исключительно из замысла создать чёткое и ясное изображение «без осложнений, с небольшим количеством сцен самых обыденных, абсолютно никакой романтичности и вычурности».
«Смотрите, вот как люди живут и вот как они умирают» (Золя).
Именно этому роману суждено было сделать Эмиля Золя популярным писателем во Франции и преодолеть «заговор молчания» критики; в России, что любопытно, и критика и читающая публика приметили зачинателя натурализма куда раньше - уже после «Добычи» цикл был признан «одним из значительнейших явлений европейской литературы», а его автор - «почти гением».
«Западню» называли «порнографией» и «собранием мерзостей», изображаемое автором - не жизнью, а «патологией», а самого Золя именовали «врагом простого народа», ведь он, стервец, «не избавляет нас даже от [вида] блюющего пьяницы…».
Сам автор позиционировал роман как призыв «потребовать воздуха, света и образования для низших классов»:
«Западню» можно резюмировать следующими словами: «Закройте кабаки - откройте школы».
__________
«Западня» - социальная драма о «постепенном отмирании всех хороших начал» под влиянием алкоголя и среды, а также - в очередной раз, но на новом материале - о фатальной силе законов наследственности.

____________________________________________
«Империя не имела государственных деятелей, она имела только дельцов» («Разгром»)
После двух провинциальных романов мы снова возвращаемся в столицу, но не к «откормленным буржуа и разжиревшим лавочникам» («Чрево Парижа») и не к нуворишам вроде Саккара («Добыча»), нет: «Его превосходительство Эжен Ругон» - политический роман, в котором Золя помещает очередного отпрыска исследуемого рода в среду тех, кто непосредственно ответствен за установившийся во Франции режим.
Подготовка, как водится, заняла немало времени: уже не столь юный натуралист Эмиль Золя в течение нескольких месяцев занимался изучением документов, речей, докладов чиновников, газет, мемуаров, опрашивал живых свидетелей. Так, у Флобера Золя интересовался, «сколько люстр освещало стол за обедом, шумная ли бывала беседа, о чём говорили, что говорил император…».
Да и прототипами героев романа стали вполне реальные политические деятели эпохи. Так, главный герой - Эжен Ругон - частично слагается из генерала и министра внутренних дел Эспинаса, а также министра Эжена Руэ. Но не следует полагать, что в этом романе Золя решил быть документалистом и отошёл от широких символических обобщений, уже встречавшихся ранее (оранжерея, центральный рынок, Параду, «толстые» и «тощие», полоумная Дезире, «зверьки» Майоран и Кадина, священник-палач аббат Фожа, «жандарм божий» Арканджиа…). Его Эжен - не столько личность, сколько «воплощение той жажды власти, которая принудила множество способных людей послать к чёрту принципы и сделаться инструментами омерзительной государственной системы»* (Vizetelly).
* He is the incarnation of that craving, that lust for power which impelled so many men of ability to throw all principle to the winds and become the instruments of an abominable system of government (Ernest A. Vizetelly)
Эжен, как мы помним, принимал деятельное участие в удушении Второй республики и в государственном перевороте, попутно снабжая своих родителей ценными сведениями, касательно того, куда дует политический ветер («Карьера Ругонов»). Ныне же он видный политический деятель, дорвавшийся до власти корыстный и честолюбивый человек, напрочь лишённый всяческих мыслей о благополучии страны; его инструмент - хлыст, его стремление - абсолютная власть:
«Во власти он ищет радость сознания своего превосходства… счастье ощущать себя сильнее и умнее других… Он уверен, что все окружающие его люди либо дураки, либо мошенники».
Эжена окружает «клика», кучка жалких личностей, кормящихся достижениями своего патрона. Все они, авантюристы, крупные и мелкие, становятся символом социального строя, базирующегося на корысти, тщеславии и стяжательстве. С их помощью автор вскрывает сущность т.н. «серьёзных дел», творившихся в «эпоху безумия и позора».
Сам Золя называл этот роман одной из «самых интересных книг, до сих пор мной написанных» и ожидал, что публикация «вызовет большой шум». Однако ввиду политической токсичности «Его превосходительства» официальная критика принуждена была данный роман проигнорировать. А кроме того, вскоре внимание читателей и критиков было отвлечено следующим романом («Западня»).
Что любопытно, роману про Эжена Ругона было суждено исправить негативное ощущение, оставшееся от «Проступка аббата Мурэ» у русской критики, - подавляющее большинство рецензентов снова превозносили зачинателя натурализма до небес, особо подчёркивая возврат к социальной проблематике и точность социальных наблюдений. Вот только эпоха Второй империи, со всеми её приметами и примечательностями, крайне далека от современного читателя, посему роман наверняка рискует оказаться хорошим снотворным.
___________________________________
«Его превосходительство Эжен Ругон» - «подлость, низость, невежество, продажность и страсть» властей предержащих, той стаи авантюристов, которые, по мнению Золя, азартно делили добычу - Вторую империю; роман, на мой взгляд, написанный сугубо для своего времени и вместе с актуальностью утративший бо́льшую часть своих достоинств.

Дневник сельского священника
__________________________________
«Ничего человеческого не осталось в нём. Он стал только вещью бога».
Ещё только начиная работу над своей натуралистической эпопеей, Эмиль Золя планировал роман о провинциальных священниках. В итоге, получилась своеобразная дилогия («Завоевание» и «Проступок аббата Муре»), в которой романы связаны не сюжетно, но тематически, а также тем, что главный герой «Проступка» Серж - сын Марты и Франсуа Муре, судьба которых описана в «Завоевании».
Методология натурализма снова потребовала от Золя существенной подготовки: он исследовал в течение нескольких месяцев культ девы Марии, психологию религиозного экстаза и прочую мистику, а также расспрашивал священника-расстригу о годах учения в семинарии и сам посещал мессу в маленькой церквушке, дабы точно передать детали службы. Однако мастерство автора нашло наиболее полное выражение в импрессионистски ярком и центральном для всего романа образе парка с легко трактуемым названием Параду.
В отличие от предыдущего романа, где фигурировал священник-палач, аббат Муре - священник-жертва. Жертва, с одной стороны, своей наследственности (его мать Марта, как мы помним, женщина с потомственной истерией), а с другой - лицемерия и ханжества наставлявшей его церкви. В свои 26 ему удалось избежать всяческих соблазнов, и в первых главах мы видим застёгнутого на все псевдоморальные пуговицы полуживого священника-функцию, который «ни о чём не сожалел, ничего не желал, ничему не завидовал».
Арто - место служения героя - это забытая всеми богами провинциальная деревушка, где возделывают скудную землю бедные суровые аборигены. Пейзаж в «Проступке», вообще, играет важнейшую роль в отражении происходящих с Сержем перемен: начальные безрадостные ландшафты противопоставлены «безумству описаний» последующих глав.
Защитником церковного фанатизма является брат Арканжиа («жандарм божий»). Его бог - «карающий, ревнивый и страшный», он сам - «неотёсанный, невежественный, грязный крестьянин… воплощённый катехизис…».
Конфликт задан с первых же страниц: в бедную, похожую на сарай, церквушку, где Муре служит обедню, проникают солнечные лучи - «мертвящая тень» отступает перед «торжествующей жизнью».
«Влюбленный священник - прекрасная тема для драмы, в особенности если этот священник рассматривается под углом зрения различных влияний наследственности» (Золя).
Болезнь, снедающую Сержа, можно определить как «фанатичный ригоризм» и «религиозная мономания» - увлечение образом Мадонны доводит его до крайности. Случившееся с ним «исцеление» - заслуга не только выходившей его юной Альбины, но и места, где он оказался: огромный, заброшенный, живущий своей жизнью Параду возвращает героя к жизни.
«Море листвы свободно катилось шумными волнами до самого горизонта. А сколько синевы было над нашими головами. Мы могли расти, лететь, плыть, не встречая препятствий, точно облака. Всё небо принадлежало нам…».
Образ «райского сада» уже встречался в цикле Ругоны-Маккары: оранжерея экзотических растений («Добыча»), символизирующая Вторую империю, которая роскошью своих красок дегуманизирует, растлевает, толкает «к преступлению, к чудовищной любви, звериным ласкам». Однако если связь Рене и Максима изображена как противоестественная, извращённая, то случившееся с Альбиной и Сержем автор рассматривает как проявление извечного, прекрасного, жизнеутверждающего начала:
«Через посредство этих персонажей он [Золя] утверждал свою веру в природу, своё отрицание греха, свою восхищённую и милосердную нежность ко всему человеческому» (Труайя).
Сестра Сержа, полоумная Дезире, являет собой живое свидетельство вырождения Ругонов и Маккаров; подобные ей персонажи красной нитью проходят через весь цикл. Она «блаженна и счастлива, как её коровушка» и олицетворяет собой эдакую Кибелу или Вилендорфскую Венеру - животворящие силы природы, для которых круговорот жизни и смерти нерушим и не отягощён разумом и рефлексией.
В романе присутствует и доктор Паскаль, главная маска автора, представитель рода Ругонов и Маккаров, который через много лет, в финальном романе, уже после краха Второй империи, проанализирует генетическую одиссею своего семейства.
«Спиритуалистической религиозной идее, отрицающей счастье земного существования, Золя противопоставил всё неисчерпаемое богатство, всю щедрость созидательных сил природы, красоту и гармонию видимого материального мира» (Кучборская).
Роман не был очень уж популярен среди читающей публики (скоро и это придёт), однако у многих критиков он вызвал столь желаемую автором реакцию: «Проступок» обвиняли в «скотском натурализме», называли «самым безнравственным и самым безбожным романом цикла», а герои были поименованы как «животное-самец, брошенное в лесную чащу вместе с животным-самкой». И даже чрезвычайно лояльная до сих пор русская критика впервые оказалась недовольна… то ли потому, что проблема церковного безбрачия была не слишком актуальна, то ли из-за чрезмерного «нагромождения красок, образов, ощущений» (Боборыкин), то ли из-за ослабления социальной тематики:
«A propos de Zola, скажу Вам, что, несмотря на всеобщую, даже необыкновенную любовь всех у нас к Золя, почти все остались недовольны последним его романом „La Faute de l’Abbé Mouret“» (Стасов в письме Тургеневу).
В общем, время настоящего общественного резонанса и популярности у читателей ещё не пришло - для этого автору Ругонов-Маккаров предстояло затронуть иные струны и исследовать иные среды.
_________________________
«Проступок аббата Муре» - антиклерикальный роман о противостоянии природы и религии; яркая импрессионистская поэма, исполненная пантеизма, с довольно шаблонными романтическими персонажами и некоторой философией.

«Finis sanctificat media»
_________________________
Ещё только начиная работу над своей натуралистической эпопеей, Эмиль Золя планировал роман о провинциальных священниках. В итоге, получилась своеобразная дилогия («Завоевание» и «Проступок аббата Муре»), в которой одному из романов достались, на мой взгляд, лучшие стороны авторского таланта, а другой… примечателен по-своему. Сейчас о нём.
После двух парижских эпизодов Золя в четвёртом романе возвращает нас в Плассан, выдуманный провинциальный городок, в котором, как помнит читатель, был разыгран дебют эпопеи «Ругоны и Маккары». Исследуемый автором род представляют Франсуа Муре (сын Урсулы Маккар и шляпника Муре) и его двоюродная сестра и супруга Марта Ругон (дочь Пьера Ругона и Фелисите). Однако, как и в предыдущем романе, повествовательный фокус несколько сдвинут в сторону человека со стороны - загадочного аббата Фожа, которой со старушкой матерью поселяется у четы Муре.
В «Родословном древе» Золя указывает, что Марта «истерична» и наиболее схожа, и физически и духовно, с праматерью Ругонов и Маккаров Аделаидой. Аббат Фожа, этот «современный Тартюф», подчиняет себе склонную к истерии женщину, доводя её религиозность до крайней степени; таким образом Золя проводит довольно смелую для своего времени мысль - чрезмерная религиозность является проявлением психического расстройства («больной мозг верующей женщины бросает её во власть религиозных галлюцинаций»).
Но образ Марты и свершившийся с ней переворот, пусть и изображены с «замечательным мастерством» (Плещеев), всё же второстепенны: в центре повествования - лицемерный священник-палач, главная сюжетная линия - подчинение провинциального городка интересам режима Наполеона III.
На момент написания романа тема агрессивного клерикализма, использования силы и влияния церкви в политических целях, была весьма актуальна: в Третьей республике было немало сторонников возрождения монархии, которые своим орудием сделали клерикальную пропаганду:
«Последовал смутный период, во время которого осуществлялась политика, названная политикой нравственного порядка, которая отнюдь не была нравственной и не создавала порядка. Она заключалась в притеснении левой прессы, в проведении чисток среди служащих-республиканцев и в пении: «Спасите Рим и Францию / Во имя Сердца Иисусова…» (Моруа).
Активным деятелем антиклерикальной реакции был и Эмиль Золя, который не только публицистикой, но и своим романом «Завоевание» подчёркивал, что погибшая только что Вторая империя в своей репрессивной деятельности опиралась на духовенство: проводя параллель с современностью, он указывал на стоящие перед Третьей республикой угрозы.
«Золя старательно создает панораму Второй империи. Но кому теперь интересна Вторая империя? Она уже устарела» («Упадок лжи», Оскар Уайльд).
Вот только современного читателя, далёкого от социально-политических перипетий Второй империи и Третьей республики, роман явно усыпит, так что не каждый доберётся до крайне драматического финала-апокалипсиса. Предположу, что виной этому также стало желание издателя получить роман, где было бы «поменьше искусства»: после ярких картин «Карьеры Ругонов», «Добычи» и «Чрева Парижа» роман «Завоевание» выглядит несколько блекло.
«В России читают теперь только вас!».
Перечисленные выше романы не то чтобы сделали Золя известным автором, но, по крайней мере, привлекли внимание критики, сформировали вокруг него кружок соратников и почитателей нового направления, а также спровоцировали оскорбление чувств у некоторых ханжески настроенных граждан. С «Завоеванием» всё было много хуже: роман, нацеленный на актуальность, прошёл незамеченным - всего 1700 проданных экземпляров и ни одной статьи в парижской прессе. «Ни малейшего шума, ни малейшего недовольства. Тишина. Подобная казнь безразличием приводила Золя в отчаяние» (Труайя).
А вот успех Золя в России, как и ранее, был значительно бо́льшим, нежели во Франции, как по тиражу, так и по вниманию критиков: Тургенев, к примеру, завершает письмо к Золя ставшей широко известной фразой: «В России читают теперь только вас!» (имея в виду переводных авторов).
____________
«Завоевание» - тогда - актуальный антиклерикальный памфлет, сейчас - несколько блеклый психологический роман о болезненной набожности.
Примечание
___________
Имя аббата Фожа - Овидий. Мне нигде не встретилось какое-либо объяснение такому (довольно любопытному) именованию. Рискну, впрочем, предположить, что тут дело в раннем замысле Золя: первоначально аббат должен был быть человеком страстным, чувственным, эдаким соблазнителем - вот и поименовал его автор в честь Публия Овидия Назона, автора поэмы “Ars Amatoria”.

Я колеблюсь с оценкой: между 7 и 10. Но ставлю всё же 7 :)
Очень мне понравился замысел и описание характеров героев, ни одного одинакового, даже среди толпы трусов, все разные! Кроме того, в качестве начала огромной серии книг о семействе это произведение подходит идеально. С самого начала этой части мы понимаем, что "карьера Ругонов" начнётся с испепеляющей жажды денег и при помощи, возможно, заговоров, даже, может быть, переворотов и крови.
Хотя, если честно, герои, члены семьи Ругонов-Маккаров такие себе гениальные злодеи, ну прям очень не очень. Генетика, мягко говоря, подводит, воспитания никакого. Мать семейства, вскоре заброшенная, всегда страдала от нервных припадков, да и особо благонравной дамой никогда не была. Один ребёнок, Пьер, был рождён от законного мужа Ругона, два же других, Антуан и Урсула, от странных страстных отношений с любовником-разбойником Маккара. Дети росли, как в поле трава, полная свобода, никакой коррекции поведения, все их, в основном злонравные, качества расцветали в полную силу.
Эти дети подросли, родили своих детей, но как-то особо не поумнели, а точнее их влечения и желания стали ещё более острыми. Пьер до сих пор желал стать значимым в обществе прованского города Плассан. Жёнушка его была ему под стать, она, казалось, была головой и шеей мужа, хотя этого он не всегда замечал; она была готова на всё, чтобы выбиться и разбогатеть, она ещё всем покажет, ей будут все завидовать! И пусть столько десятков лет их различные планы достичь высот то с помощью своего торгового предприятия, то с помощью детей, терпели крах. Сейчас, во время сложной политической ситуации в стране и восстаний приверженцев Республики, они обязательно должны вбежать в вагон (с любой позиции) и наконец-то приобрести уважение, вес и блеск!
Антуан всегда мечтал жить, не работая, но имея достаток и комфорт. Он был паразитом. Жил на шее всех, кто попадался под руку: жены, детей, даже стыдящегося и ненавидевшего его брата, хотя с последним с большим трудом. В общем, вы поняли: ничем не гнушался, лишь бы не трудиться.
Были здесь и другие герои, по сути многие из которых были трусами, но которые хотели казаться значимыми, хотели похвал, денег, славы. А по сути были кровопийцами.
Нашлось здесь место и романтически настроенной юности, прыти, слепой вере в идеалы восстания повстанцев-республиканцев. Так, племянник Пьера Сильвер (с которого, к слову, началось и им же закончилось произведение) ввиду своего страстного характера и понахватанных отовсюду знаний рвался в бой, он желал свободы и счастья своему народу, а также его подруге, девушке Мьетте, которую никто не любил и постоянно обзывали дочерью каторжника.
Процесс же чтения протекал настолько ровно, что даже иногда становилось скучно. Очень всё подробно, от описаний мыслей и чаяний персонажей до описания местности и событий. Хотя, что странно, книга небольшая, а событий в ней достаточно много.
Очень мне хочется узнать, как в дальнейшем повлияют события на отдельных членов семейства Ругонов-Маккаров (и как они сами повлияют на события). Однако, простите, 20 книг - это сильно! Слишком.
#свояигра
#книжный_марафон

_________________
Venter deus meus erit
_______________________
В третьем романе своей натуралистической саги Эмиль Золя в качестве главного персонажа выводит не представителя рода Ругонов-Маккаров, а человека со стороны - Флорана, случайно схваченного во время беспорядков 2 декабря 1851 года и сосланного на каторгу. После восьми лет во Французской Гвиане Флоран совершает побег и, голодный и полумёртвый, тайно возвращается в Париж, «откормленный, великолепный, заваленный пищей в предрассветном мраке», и тут же оказывается на Центральном продовольственном рынке, месте, которое теперь является своеобразным символом этого занятого пищеварением города и, шире, Второй империи.
Скрупулёзность натуралистического метода Золя, как и прежде, проявляется в тщательной подготовке:
«…он исследовал ларьки, погреба, кладовые, отмечая форму кровель и расположение различных секторов: мясные, рыбные, зеленные, сырные лавки, справлялся о полицейских предписаниях, налогах и пошлинах, вычерчивал план квартала, подробно описывая каждую улицу со всеми её особенностями, раздувал ноздри, жадно втягивая мощные и крепкие запахи, исходившие от этого чудовищного скопления пищи» (Труайя).
Рынок и есть подлинный герой романа, и весь стилистический талант автора направлен на живописание его особенностей. Оттого все персонажи кажутся функциями, которые тем или иным образом с ним соотносятся. Рынок с его атмосферой «злого, завистливого, жадного, болтливого» мещанства - это сытый, ханжеский мир «порядочных» людей, сплетников, интриганов, предателей и прочих порядочных сволочей.
Ключевой в этом отношении сценой является «симфония сыров»: местные старухи-сплетницы обсуждают секрет Флорана среди вони изысканных и не очень сыров - «И при этом казалось, что так нестерпимо смердят не сыры, а подлые речи г-жи Лекер и мадемуазель Саже». Все персонажи так или иначе перевариваются Чревом Парижа, постепенно склоняясь «к блаженной подлости устойчивого пищеварительного счастья, царившего в этой заплывшей салом среде…».
Собственно, исследуемый автором род в данном романе представляет Лиза - дочь Антуана Маккара, вышедшая за колбасника Кеню. Автор с её помощью изображает типические черты обывателей, с их эгоизмом и показной и поверхностной честностью, за которой скрывается «бездна трусости и жестокости»:
«Ну и сволочи же эти «порядочные» люди!».
Отдельным лейтмотивом звучит в романе тема «детей Рынка». Это, прежде всего, сироты Майоран и Кадина, «счастливые, предоставленные инстинкту зверьки», а также Мюш, сын торговки Лизы, живо впитывающий местный колорит:
« - Хочу немного пошкварить себе копыта, понял? Холод чертовский, разрази его гром».
Сюда же можно отнести юную Полину Кеню (её история ждёт нас в романе «Радость жизни»): она не только играет важную роль в сюжете, но и служит для реализации контраста, главного приёма Золя, - в атмосфере «благополучного, блаженного пищеварения» Флоран рассказывает ей о своих злоключениях в изгнании («рис с червями и вонючее мясо»).
Важнейшим персонажем другого идейно-художественного полюса является Клод Лантье, юный художник, чьё жизнеописание случится ещё нескоро - в романе «Творчество». Клод выполняет в «Чреве Парижа» функцию резонёра (иначе - античного хора), иронически настроенного стороннего наблюдателя, посредством которого Золя проводит некоторые обобщающие замечания касательно происходящего, в частности, задаёт главный конфликт:
« - А знаете ли вы «Войну толстых и тощих»?».
Речь идёт о двух гравюрах Питера Брейгеля Старшего - «Кухня тучных» и «Кухня тощих» (иногда - «Пиршество»). На первой из них группа весьма корпулентных граждан предаётся чревоугодию; в левом верхнем углу изображён забредший на огонёк «тощий», которого с негодованием выталкивают. Эту аллегорию и будет живописать Эмиль Золя в своём романе: «Перед вами мечутся целые ряды картин, не уступающих в мастерстве живописным изображением фламандских мастеров» (Боборыкин, «Реалистический роман во Франции»).
В 1873-м году роман был переведён и опубликован в России - одновременно в шести (!) журналах; в том же году появились два отдельных книжных издания. Таким образом, общий тираж романа в России был больше, чем во Франции (родная публика всерьёз обратит внимание на Золя только по выходе седьмого романа серии).
_________________
«Чрево Парижа» - литературный натюрморт, сюжетная непритязательность которого (аллегория поражения идеалистов под напором «откормленных буржуа и разжиревших лавочников») с лихвой компенсируется мастерством живописания среды.
Страницы← предыдущая следующая →
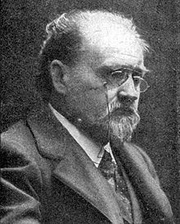
Фото Эмиль Золя
- Книги (24)
- Рецензии (103)
- Цитаты (50)
- Читатели (1614)
- Отзывы (3)
- Подборки (6)
Экранизации
Лучшие книги - Топ 100