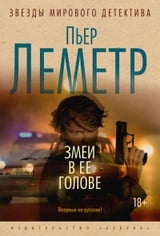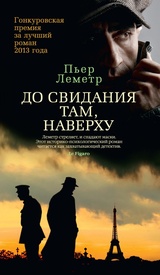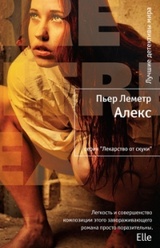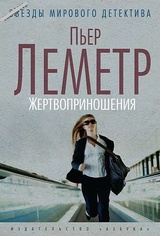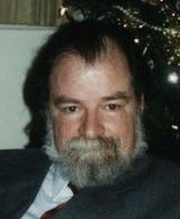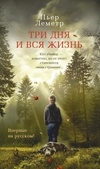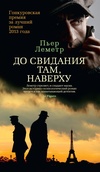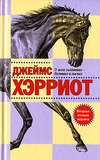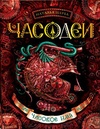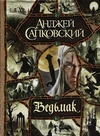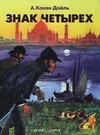В моих «хотелках» некоторые книги прозябают годами, поэтому сразу скажу большое спасибо @jasa_anya за то, что пододвинула данный роман, порекомендовав мне его для соответствующего пункта БК.
Так получается, что в очередной раз оставляю книгу без оценки, но при этом не могу сказать, что разочарована. Я изначально понимала, что так, как Ремарк, Леметр не напишет. Мне бы очень хотелось сравнивать «До свидания там, наверху» с «Возвращением», а приходится сравнивать с романом Татуированные души. Казалось бы, где Франция первой четверти ХХ века, а где современный Таиланд, но поразительно много совпадений: нетрадиционная ориентация и экстравагантное поведение героев, необходимость носить маску, странная дружба с девочкой, наркотики. Мне и в «Татуированных душах» такое нагромождение всего казалось избыточным, а уж в этом романе и подавно. Слишком вычурно и местами напоминает злую карикатуру. Возможно, так было и задумано, не знаю. Если бы знала наверняка, то и оценку смогла бы поставить.
Даже, учитывая гомосексуальность и творческую натуру Эдуара, все чересчур. Один финальный выход (по-другому не назову) чего стоит. Да, там и человеческая трагедия, несомненно, есть, но театра гораздо больше. Хотя желание Эдуара напоследок поиметь (извините) весь мир объяснимо. Чего ждать от вечного везунчика, которому жизнь вдруг преподносит ТАКОЙ сюрприз. Я не знала, как на него и его поступки реагировать: жалеть ли, злиться, восхищаться. А ведь был еще и Альбер – чудак, который носился с конской головой, и чуть что норовил обмочиться. Я вроде и понимаю, что, скорее всего, автор хотел показать, что вот такой вот Альбер, горе-вояка и горе–мошенник, но все равно как-то слишком. Но самым поразительным, среди всех странных персонажей для меня оказался Мерлен – неряшливый человечек, единственная забота которого, казалось бы, поесть курочки. Но нет, он оказался едва ли не единственным искренним хранителем памяти о павших. В то время, как остальные только наживались, кто как мог. Самые страшные эпизоды для меня – это гробы по метр тридцать и схватка Мерлена с собакой. А вообще даже, если малая часть рассказанного Леметром правда, то это ужасно и отвратительно, желание схватиться за голову возникало регулярно.
При всем моем изначальном скепсисе, я не жалею, что прочитала данный роман. Что-то в нем есть. И даже авантюрная часть, связанная с изготовлением памятников, меня увлекла. В какой-то момент мне стало очень интересно, чем эта вся затея закончится, при том, что я не любитель подобных сюжетов.
#БК_2020 (Книга, которую посоветует вам ридлянин)